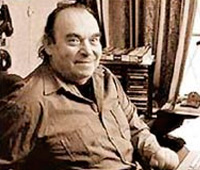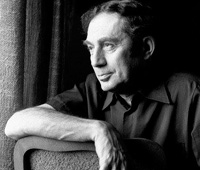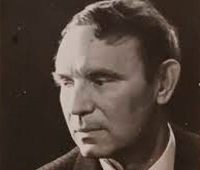Фортунатов Н.М. О структурном анализе литературного произведения (на примере романа Л.Н. Толстого «Война и мир»)
Аннотация. Статья посвящена проблемам преподавания русской литературы в старших классах. Автор статьи, опираясь на понятие структуры и на основы структурного анализа, где часть рассматривается как часть целого и несет в себе свойства целого, предлагает использовать этот закон для решения следующего вопроса: небольшой фрагмент текста способен дать представление о смысле произведения в целом, о его идеях, об особенностях мастерства писателя, о его творческом процессе и о нем самом. Особая смысловая нагрузка лежит в статье на термине «тема», которая характеризуется как конкретный, отчетливо организованный эмоционально-образный материал, обладающий способностью к дальнейшему развитию, перевоплощениям в соответствии с общей идеей произведения и со своими собственными закономерностями. Причем автор подчеркивает парадоксальность темы, так как точность в ней рождается неточностью, инвариантность сплавлена с вариативностью, постоянство с изменчивостью, статика с динамикой, так что отделить одно от другого невозможно. Статья объединяет в себе два типа исследования. Один имеет в виду фундаментальные проблемы филологической науки: эмоциональность как основу природы литературы и других искусств, специфику структуры литературного произведения, понятие темы в литературной науке; другой ставит перед учителями-словесниками конкретные вопросы методического характера. Сформулированный выше подход к анализу литературного произведения демонстрируется на примере романа Л.Н. Толстого «Война и мир». При этом учитывается, что Л.Н. Толстой - единственный из художников-классиков, который прошел три кровавые военные кампании как офицер-артиллерист действующей армии и воспользовался своим опытом при создании «Войны и мира».
Ключевые слова: специфика структуры литературного произведения, понятие темы в литературе, эмоциональность как основа литературы, вариативное тождество, диалектическая триада, Л.Н. Толстой
Если обратиться к дефинициям философов, то самое существенное в филологии заключается в следующем: объект этой науки - слово, предмет - особенности словоупотребления [6, с. 21]. Акцент сделан хоть и энергичный, но не вполне точный: словесное искусство, но можно было и даже следовало бы сказать: словесное искусство, что вернее, ибо литература как вид искусства живет не по законам языка, а по законам искусства, где определяющими являются несколько положений Во-первых, эмоциональность. Есть она - значит, возможно истинно художественное произведение, нет - тогда можно говорить о чем угодно: о грубой, топорной работе, о ложном замысле, который не в состоянии вызвать ответную реакцию читателей, об оплошности автора, не заметившего, что жизнь сердца ушла, заменившись холодной рефлексией.
Теория литературы чересчур рационалистична. Она не то, чтобы совсем отрицает эмоциональность как один из основных законов искусства, а просто проходит мимо, не замечая его. Между тем самыми страстными поборниками этого положения были как раз наши классики Толстой и Достоевский.
Лев Толстой в трактате «Что такое искусство?» дает следующее определение: «Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно известными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их» (курсив Л. Т. - Н.Ф.) [5, т. 15, с. 80]. Нередко говорят, что Толстой приносит мысль в жертву чувству Но для него это единая, неделимая сущность Можно сказать: это мысль, ставшая переживанием, и чувство - пережитой, выстраданной мыслью.
Значительно раньше трактата и более точно он высказал эту идею в статье «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят?» (1862). Это была первая волна его увлечения педагогикой. Статья представляет собой подробный отчет о том, как два крестьянских мальчика, ученики Яснополянской школы, сочиняют рассказ по заданной учителем пословице «Ложкой кормит, а стеблем глаз колет». Учителем в тот момент был сам Лев Толстой, преподававший тогда в созданной им Яснополянской школе. Статья была опубликована в журнале, издававшемся Толстым, который был назван «Ясная поляна» и посвящен вопросам образования В какой-то мере герои статьи симво- личны и представляют собой два рода писательской деятельности Семка отличается точностью найденных подробностей и перипетий сюжета, Федька всецело захвачен чувством, которое стремился передать: «Ему хотелось говорить только одному, - и не говорить, как рассказывают, а говорить, как пишут, то есть художественно запечатлевать словом образы чувства» [Там же, с. 13]. Достоевский приходит к той же мысли в романе «Подросток»: один из героев, наблюдая за своим собеседником, вдруг ловит себя на мысли о том, что идея в результате эмоциональности рассказчика становится не просто идеей, а обращается в сильнейшее чувство, в «идею-чувство» [3, с. 59, 60]. Образы чувства, идеи-чувства, по логике Толстого и Достоевского, - это основа основ искусства.
Другое положение несколько парадоксально. Чувство нельзя пересказать в словах, оно может быть только выраженным всей целостностью произведения Толстой остроумно заметил, что критика, по-видимому, умнее автора «Анны Карениной», потому что может назвать ее идею, но, если бы автору предложили сделать то же самое, ему не оставалось бы ничего иного, как написать роман заново и так, как он написан, и что главная задача критики состоит не в том, чтобы определять идею произведения, а исследовать «лабиринт сцеплений» структуры, в котором и может только быть высказанной художественная мысль, если она действительно художественно высказана.
Однако, несмотря на предпринятые усилия, начиная с ОПОЯЗа, формальной школы и кончая новейшими теоретическими направлениями, художественная структура оказалась если не совсем, то, во всяком случае, очень слабо исследованной, а структурализм и постструктурализм, несмотря на общую их коренную основу, так и остались без структуры: возникнув как учение о языке, они, став общегуманитарной исследовательской программой, интерпретировали все культурные явления как языковые феномены [4, с. 162], а центр структуры, формирующий ее смыслы, отдали на произвол читателя.
Наконец, третье положение связано с решением не общих теоретических вопросов, а вполне конкретной задачи: как быть с романами Толстого и Достоевского в школе?
Предлагаемая вниманию читателя статья представляет собой единство двух типов исследования: один обращает внимание на фундаментальные проблемы искусства, которые или забыты, или не привлекают к себе должного внимания; другой излагает метод структурного анализа. Если иметь в виду преподавание литературы в школе, то такую задачу лучше всего решать в совместной работе учителя и учащихся в виде практических занятий на уроках литературы. Как их построить - это уже компетенция учителя, потому что каждый может предложить свои подходы в работе с классом, имея в виду его состав, интересы, уровень подготовки учащихся Однако, добавим, используя при этом принципы структурного анализа Поэтика давно улеглась в свои берега и подобными исследованиями не занимается.
Прежде, чем перейти к конкретным наблюдениям, необходимы два предварительных замечания Первое связано с диалектическим законом структуры, где часть несет в себе свойства целого (идеи произведения или «идеи» его постройки). Здесь и скрыт выход из положения: можно начать знакомство с романами Толстого или Достоевского с их фрагментов, которые откроют смысл целого, то есть самих романов. Второе замечание имеет в виду наиболее широко используемый в теориях разных искусств термин «тема произведения» В литературоведении тема толкуется как предмет изображения или предмет повествования: что изображено или как, кому и о чем рассказывается? К сожалению, чаще всего это разговор не собственно о литературе, а скорее по поводу литературы, так как уходит в область свободных импровизаций или становится метафорой действительности, давшей толчок замыслу писателя. И вот уже, не замечая утрирования и подмены разных понятий, говорят о том, что «Борис Годунов» - отражение эпохи смуты, «Война и мир» - Отечественной войны 1812 года, а «Тихий Дон» - войны с контрреволюцией на Дону.
Более продуктивным было бы понимание темы, исключающее ее обособление, ее абстрагирование от эмоционально-образного материала, что характерно, например, для музыковедческих исследований Ибо речь идет о теме, требующей совершенно иного подхода, нежели рационалистическая логика ее литературоведческого осмысления: это конкретный, отчетливо организованный эмоционально-образный материал, обладающий способностью к дальнейшему развитию, перевоплощениям в соответствии с общей идеей произведения и со своими собственными закономерностями.
Самый яркий парадокс из множества парадоксальностей темы состоит в том, что точность в ней рождается неточностью: инвариантность сплавлена с вариативностью, постоянство с изменчивостью, статика с динамикой, так что отделить одно от другого невозможно. Это единая плоть, две стороны одного явления, одной медали. При самых резких трансформациях и изменениях тема всегда сохраняет равность себе Она остается собой, даже превратившись в свою противоположность. Самый простой пример Представьте себе музыкальную тему ярко выраженного лирического характера в первом ее изложении; после ряда преобразований в процессе своего движения она может приобрести остро драматическое или даже трагедийное звучание Два противоположных понятия (тождество и вариативность) оказываются сведенными воедино, свидетельствуя об одном: тема в своих метаморфозах всегда остается устойчивой, рельефной, узнаваемой.
Появляется эквивалентность смыслов, которую когда-то с таким напряжением искали ОПОЯЗ и формальная школа Поэтому тему можно определить как тождественную вариантность или как вариативное тождество, что одно и то же. На первый взгляд, это всего лишь оксюморон Но это не что иное, как ее диалек- тичность: изменение «того», что в самых резких своих трансформациях и преображениях всегда остается «тем же» Благодаря этому своему свойству определенности, узнаваемости тема легко маркируется, отграничивается, что дает возможность увидеть ее во всех ее преобразованиях и, отправившись таким путем, выделить ее эквивалентные смыслы и создать на их основе четкую модель текста [1; 2; 7].
После этих предварительных замечаний остается выбрать сам текст, с которого началась бы работа И такой текст есть, причем из «Войны и мира». Формулировку темы можно предложить, например, такую, чтобы заинтересовать участников практического занятия: «Человек на войне. Тема страха: образ капитана Тушина («Война и мир»: т. I, ч. 2, гл. XVI, XVII, XX)». Надо сказать, что образ Тушина - это великая тайна мастерства Толстого. Лишь бегло появившись в небольшом фрагменте развернутого исторического полотна, он остается в памяти читателей как яркий представитель русского характера, русской смелости, находчивости и доброты, не затерявшись в сотнях действующих лиц романа. По всей вероятности, Толстой чувствовал необычность этого образа и пытался дать ему место в сюжете. В одной из рукописей княжну Марью Болконскую спасает от взбунтовавшихся крестьян не Николай Ростов, а Тушин, но дальше чернового наброска дело не пошло При структурном анализе избранного текста следует иметь в виду срез разных его планов. Во-первых, в предложенном фрагменте живет повышенная стихия эмоциональности; во-вторых, в нем господствуют темы в таком их понимании, которое дает основание для возникновения инновационного метода чтения и анализа (тема как вариативное тождество); в-третьих, фрагмент воплощает в себе один из центральных законов структуры: можно сказать, если речь идет о ней, - «это часть», но только добавив - «часть целого», отражающая в себе свойства целого Лингвистика не занимается невербальными принципами анализа, где смысл заключен не в словах, а в связях тем между собой и общим структурным единством Поэтому целесообразно начать знакомство с ними, применив приемы структурного анализа к отдельным отрывкам романного текста. Они способны многое в нем самом объяснить.
Первая тема, рисующая образ Тушина, подчеркивает его обыкновенность. Это какой-то «невоенный» боевой офицер действующей армии; человек, ничем не замечательный, скорее - неловкий, неуклюжий, нелепый в его портретном изображении Вторая тема - непосредственно тема страха. Здесь требуется наметить для учащихся более точные границы поиска. Дело в том, что характеристика Тушина начинается раньше, чем он появится во время боя, - уже с XV главы. Сначала князь Андрей Болконский видит Тушина в палатке маркитанта (торговца мелким товаром, преимущественно съестными припасами; маркитанты в свое время сопровождали армию в походах) в будничной обстановке Он в одних чулках, без сапог перед штаб-офицером, который строго отчитывает его за неподобающий вид В фигуре артиллериста, замечает автор, «было что-то особенное, совершенно невоенное, несколько комическое» [5, т. 4, с.219]. Затем, спустя некоторое время, он слышит его голос (гл. XVI), причем речь уже идет о страхе смерти: «Нет, голубчик... я говорю, что коли бы возможно было знать, что будет после смерти, тогда бы и смерти из нас никто не боялся» [Там же, с 224] В это время рядом падает ядро, сотрясая землю своим ударом Первым из палатки выскакивает Тушин: «лицо его было несколько бледно» [Там же, с. 225], - замечает автор Две темы, сначала бегло представленные, дальше будут идти так же, то соединяясь, то расходясь Этот момент сближения в экспозиции двух разных тем следует подчеркнуть, как и различие самих тем Первая тяготеет к инвариантности (неизменности), это ее свойство проявляется во множестве повторов; вторая - к вариативности, к трансформациям и проходит несравненно более сложный путь своего развития.
Тема «невоенного» Тушина дается везде в одном и том же тоне (гл. XV, XVI, XVII, XX): «маленький, грязный, худой артиллерийский офицер без сапог, в одних чулках»; «в фигурке артиллериста было что-то особенное, совершенно невоенное» [5, т. 4, с. 218, 219]; «звук голоса поразил его <князя Андрея> задушевным тоном»; «небольшой сутуловатый человек, офицер Тушин, спотыкнувшись на хобот <орудия>, выбежал вперед... выглядывая из-под маленькой ручки»; «закричал он тоненьким голоском, которому он старался придать молодцеватость, не шедшую к его фигуре. пропищал он»; «робким и неловким движением, совсем не так, как салютуют военные, а так, как благословляют священники» [Там же, с 224, 228]; «маленький человек, со слабыми, неловкими движениями. из-под маленькой ручки смотрел на французов»; «покрикивал своим слабым, тоненьким, нерешительным голоском»; «находился в состоянии, похожем на лихорадочный бред или на состояние пьяного человека» [Там же, с. 242, 243]; «со слезами, которые неизвестно почему вдруг выступили ему на глаза»; «сутуловатую слабую фигурку Тушина, по-турецки сидевшего у огня»; «большие добрые и умные глаза Тушина с сочувствием и состраданием устремлялись на него» [Там же, с. 243, 245, 247].
Тема, как видим, почти инвариантна, отклонения редки и незначительны; она повторяется в одном и том же или близком смыслах. Развитие второй темы совершенно иное и идет резкими волнами эмоционального напряжения; спадает одна, начинается другая, заканчивается эта, появляется следующая и т.д. Причем стадии движения темы отчетливо выделены По мере того, как нарастает давление французов и гибнут один за другим батарейцы Тушина, увеличивается сила отпора русских.
Первая волна: «.оживление, раз установившееся, однако, не ослабело. Лицо его <Тушина> все более и более оживлялось» [Там же, с. 241-242].
Вторая волна: «.вследствие этого страшного гула, шума, потребности внимания и деятельности, Тушин не испытывал ни малейшего неприятного чувства страха. Напротив, ему становилось все веселее и веселее» [Там же, с 242]
Развитие второй стадии движения темы столь энергично, что, оставаясь собой, она приходит к отрицанию прежнего своего содержания («не испытывал ни малейшего неприятного чувства страха»).
Третья волна: Тушин «все делал, что мог делать самый лучший офицер в его положении» [Там же, с 243]
Четвертая волна: «.у него в голове установился свой фантастический мир, который составлял его наслаждение в эту минуту Неприятельские пушки в его воображении были не пушки, а трубки, из которых редкими клубами выпускал дым невидимый курильщик. Сам он представлялся себе огромного роста, мощным мужчиной, который обеими руками швыряет французам ядра» [Там же, с. 243].
Страх смерти сменяется ничем не сдерживаемым весельем, ликованьем героя и самыми невероятными его представлениями, покидающими область реального. Прежнее состояние Тушина, с которого началось развитие темы, исчезает; не остается и следа страха. Однако он все- таки есть, представленный в другой теме, своей инвариантностью близкой теме будничного, «невоенного» героя, и так же, как она, снижающей образ Тушина. Она заключена в его страхе перед любым армейским начальством. Воспитанная дисциплиной, беспрекословным подчинением младшего по чину старшему, она у него в крови, он действует почти бессознательно Всегда при таких встречах он испуган, растерян, охвачен страхом, который преодолеть не в силах: «...сказал капитан Тушин. робея»; «Тушин испуганно оглянулся»; «со страхом глядя на начальника»; «боясь говорить»; «На пороге показался Тушин, робко пробиравшийся. сконфуженный, как и всегда, при виде начальства»; «Тушину только теперь, при виде грозного начальства, во всем ужасе представилась его вина» [5, т.4, с. 219, 244, 245, 250].
По сравнению с таким постоянством тема страха смерти получает особенно энергичное развитие. Если вспомнить экспозицию, то при своем появлении эта тема едва намечена: «лицо его <Тушина> было несколько бледно» [Там же, с. 225]. Затем следует полоса разработки, когда в положении смертельной опасности страх исчезает, сменившись решимостью и энергией действия В финале арка связи перебрасывается к экспозиции, но лицо Тушина сейчас искажено гримасой даже не страха, а высшей степени страха, едва ли не ужаса: «Он стоял... с дрожащею нижнею челюстью и едва проговорил» [Там же, с. 250]. Структурная цепь в финале замкнулась динамическим повторением экспозиции.
Небольшой фрагмент текста, воспринимаемый как сжатая в несколько эпизодов обособленная структура, содержит в себе, однако, значительную информацию обо всем романе Это, бесспорно, одна из кульминаций «Войны и мира» как исторического романа, да и самой истории войн русских с Наполеоном Острая ситуация этих сцен заключается в том, что часть русской армии под командованием Кутузова из-за предательства союзников-австрийцев обречена; ее ничто не может спасти Перед ней либо позор капитуляции, либо гибель Остается (невозможный в реальности) только один выход: каким-то образом сдержать напор громадной наступающей французской армии Кутузов прибегает все-таки к нему и оставляет в качестве заслона, почти на верную гибель, отряд Багратиона, лучшего своего генерала, солдаты которого за ночь должны успеть сделать переход горными дорогами и стать на пути французов в то время, как Кутузов со всеми обозами и артиллерией попытается выйти из окружения Этот эпизод интересен уже в том отношении, что Толстой в нем спорит с самим собой: во всем романе он настойчиво, постоянно подчеркивает, что Кутузов никогда не вмешивался в ход событий, которые развертывались у него на глазах, и что в этом состояла его сила как полководца Но здесь он принимает такое гениальное решение, которое спасает русскую армию Его план, кажется, не осуществимый на деле, удался Небольшой фрагмент играет, таким образом, существенную роль в идее всего произведения. Для одного из центральных его героев, князя Андрея Болконского, встреча с Тушиным - целая эпоха жизни, когда у него на глазах рушится мечта о «своем Тулоне», мечта о славе, которая жила в легенде о Наполеоне, а с первых же
страниц романа он его верный поклонник. Легенда свидетельствовала о том, как в критический момент боя Наполеон со знаменем в руках увлек за собой солдат, решив исход сражения. Произошло это в Тулоне; Наполеон тогда еще был никому не известным генералом артиллерии А здесь истинный герой ведет себя совсем не по-геройски со своим страхом перед начальствующими лицами Для князя Андрея это было величайшее разочарование.
Позднее, в описании катастрофы под Аустерлицем, появится драматическая сцена, возвращающая к легенде о Тулоне (Толстой не верил в нее), где князь Андрей во время атаки бежит, волоча за собой тяжелое знамя за древко и стараясь только не отставать от перегоняющих его солдат А потом он видит над собой бескрайнее вечное небо, с тихо ползущими по нему облаками, и своего недавнего кумира, Наполеона, произносящего пошлые фразы и с удовлетворением рассматривающего поле сражения, усеянное искалеченными, умирающими и погибшими людьми Заканчивая целую полосу жизни князя Андрея с его мечтой о славе, здесь автор дает толчок одновременно и для критического осмысления Наполеона, имеющего громадное значение для идеологии всего романа Проливший море крови ради своих амбиций, он впервые терпит поражение. Русская армия, русские люди и дубина русской народной войны не считаются с баловнем побед, французским императором, заставив его подчиниться своей силе.
Но тот же самый фрагмент дает возможность понять и некоторые закономерности структуры романа, если рассматривать тему как вариативное тождество, о чем уже шла речь Однако, если тема диалектична в таком ее истолковании, то должна быть диалектична и романная структура В самом деле, построение отрывка - это закон диалектической триады: А - Б - А’, где А - теза: экспозиционные темы, Б - разработка тем (антитеза) и А’ - синтез, именно синтез, а не механистическая развязка, разрубающая одним ударом узел конфликта или, тем более, фабулы, которую, особенно в романах Достоевского, и расшифровать-то порой оказывается невозможным, настолько она сложна Синтез же - не просто итог, а высшая ступень развития эмоционально-образного материала, представленного в экспозиции.
Подобный вывод становится ясным, если внимательно рассмотреть принцип кольцевой симметрии отрывка - верный признак его структурной целостности. Обрамляющее кольцо проявляется, во-первых, уже в том, что Тушин в крайних точках структуры, в экспозиции и в финале, увиден глазами князя Андрея Болконского Во-вторых, тема страха через несколько волн развития, придя к отрицанию прежнего своего содержания, вновь в финале возвращается, замыкая кольцо, причем на новом, неизмеримо более высоком уровне своего движения, как неожиданный всплеск все того же страха, намеченного в первый момент: «лицо его <Тушина> было несколько бледно» (экспозиция); «стоял с дрожащею нижнею челюстью и едва проговорил» (финал).
Арка одного и того же тематического материала перебрасывается от последнего эпизода к первому, стягивая структуру эпизода в единую диалектическую целостность. Даже по особенностям своей структурной техники Толстой является писателем-диалектиком. Найдя в созданной им структуре какое-то отдельное звено, можно за него вытащить порой всю цепь, поражающую красотой своей чеканки. Причем, что удивительнее всего, темы в финале возникают в той же строгой последовательности, что и в экспозиции, только предельно сжатые по принципу метонимии, усиливая драматическое звучание текста.
Сначала появляется будничная тема «невоенного» Тушина, которая дается в инвариантном ключе, продолженная в том же духе темой его отношения к армейскому начальству Но сейчас, в финале, обе темы сближены друг с другом в предельном сокращении; их эмоциональная энергия увеличивается. И тут же появляется усиленная тема страха: «несколько бледное» лицо Тушина преображается в гримасу крайнего отчаяния; он стоит перед Багратионом с «дрожащею нижнею челюстью», потеряв дар речи, хотя у него есть что сказать в свое оправдание.
Поражает точностью соотнесенность тем в экспозиции и финале (начало боя и штаб Багратиона): «Тушин, спотыкнувшись на хобот <орудия>, выбежал вперед»; «Тушин не рассмотрел древка знамени и спотыкнулся на него» - «Сказал капитан Тушин, улыбаясь и робея»; «На пороге показался Тушин, робко пробиравшийся из-за спин генералов» Подобные соответствия невозможно предварительно рассчитать. Их следует искать в особом структурном мышлении Толстого, которое рождает такое безупречное художественное единство Еще одна причина воздействия отрывка скрыта столько же в нем самом, сколько, как ни странно, вне его: в авторе, в его наблюдениях, в том, что было пережито им в реальности. Здесь помогут наблюдения не столько над «Войной и миром», сколько над другими его произведениями, в которых Толстой, оставив путь вымысла, обращается к работе очеркиста, рассказывающего о том, что было, и формулируя свои мысли о пережитой им действительности: это «кавказские» рассказы «Набег», «Рубка леса», «Как умирают русские солдаты (Тревога)» и особенно «Севастопольские рассказы», где вторжения в повествование очеркиста очень часты Толстой был единственным из писателей-классиков, кто прошел три кровавые военные кампании, причем участвуя в них именно как боевой офицер-артиллерист Он несколько раз должен был погибнуть, но смерть проходила стороной, только опалив своим дыханьем В цикле рассказов о Севастополе он поставил перед собой цель показать войну, которую хорошо знал, но не в эффектных батальных сценах, а как она есть, показать то, что сам испытал, пережил, видел, в чем принимал участие: «не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развивающимися знаменами и гарцующими генералами, а войну в настоящем ее выражении - в крови, в страданиях, в смерти» Поэтому такая сила правды и заключена в сценах с батареей Тушина, что он черпал для нее подробности в своем собственном опыте и в своем сердце.
Поражает точностью соотнесенность тем в экспозиции и финале (начало боя и штаб Багратиона): «Тушин, спотыкнувшись на хобот <орудия>, выбежал вперед»; «Тушин не рассмотрел древка знамени и спотыкнулся на него» - «Сказал капитан Тушин, улыбаясь и робея»; «На пороге показался Тушин, робко пробиравшийся из-за спин генералов» Подобные соответствия невозможно предварительно рассчитать. Их следует искать в особом структурном мышлении Толстого, которое рождает такое безупречное художественное единство Еще одна причина воздействия отрывка скрыта столько же в нем самом, сколько, как ни странно, вне его: в авторе, в его наблюдениях, в том, что было пережито им в реальности. Здесь помогут наблюдения не столько над «Войной и миром», сколько над другими его произведениями, в которых Толстой, оставив путь вымысла, обращается к работе очеркиста, рассказывающего о том, что было, и формулируя свои мысли о пережитой им действительности: это «кавказские» рассказы «Набег», «Рубка леса», «Как умирают русские солдаты (Тревога)» и особенно «Севастопольские рассказы», где вторжения в повествование очеркиста очень часты Толстой был единственным из писателей-классиков, кто прошел три кровавые военные кампании, причем участвуя в них именно как боевой офицер-артиллерист Он несколько раз должен был погибнуть, но смерть проходила стороной, только опалив своим дыханьем В цикле рассказов о Севастополе он поставил перед собой цель показать войну, которую хорошо знал, но не в эффектных батальных сценах, а как она есть, показать то, что сам испытал, пережил, видел, в чем принимал участие: «не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развивающимися знаменами и гарцующими генералами, а войну в настоящем ее выражении - в крови, в страданиях, в смерти» Поэтому такая сила правды и заключена в сценах с батареей Тушина, что он черпал для нее подробности в своем собственном опыте и в своем сердце.
Наблюдения и выводы Толстого отмечены яркой эмоциональностью Он с восхищением говорит о русских солдатах: «Вы увидите возвышающие душу зрелища», «молча склонитесь перед этим молчаливым, бессознательным величием и твердостью духа», перед «следами достоинства и высокой мысли и чувства»; перед людьми, которые «находят какую-то особенную прелесть в опасной игре жизнью и смертью». «То, что они делают, - заключает он, - они делают так просто, так мало напряженно и усиленно, что вы убеждены, они еще могут сделать во сто раз больше... они все могут сделать» [5, т. 2, с. 90, 92, 93, 98-100].
Но ведь таковы и солдаты-батарейцы Тушина и он сам в обстановке смертельного боя. Эта скрытая в русском человеке сила патриотизма, поразительное мужество, простота в совершаемых поступках определяют у Толстого эмоциональный строй его чувств. Они не исчезают, а остаются, вполне в духе его эстетики, в деталях, в подробностях сцен, заражают читателей авторским состоянием, заключенным в них, и способны объяснить, почему совершенно второстепенное действующее лицо романа вырастает едва ли не в символическую фигуру и вступает в соперничество с центральными его героями.
Это же эмоциональное состояние автора, так ярко высказанное им, разрушает старую версию о Толстом и Достоевским, противопоставляющую их, мысль о том, что Толстой - гений пластики, в то время как Достоевский, работающий нередко на грани аффекта, - гений чувства. По отношению к Толстому это не то, чтобы ложь, а явная неточность или очевидная недостаточность. Толстой - один из самых эмоциональных русских писателей, только вулкан чувства клокочет у него внутри текста, взрываясь протуберанцами в романных кульминациях. В самых простых, кажется, картинах порой заключена громадная сила переживаний автора.
Как дополнительный пример к рассматриваемому фрагменту может служить сцена свидания Наташи Ростовой с князем Андреем Болконским в Мытищах (т. 3, ч. 3, гл. XXX-XXXI). Основой этого эпизода является доминирующий в нем в полном смысле слова «образ чувства» - образ человеческого страдания и боли: стон раненого адъютанта с раздробленной кистью руки, страшно звучащий в осенней темноте ночи. Графиня Ростова распорядилась подальше от него остановиться в менее удобной избе, которая оказалась (о, эти неслучайные случайности в сюжетах Толстого!) «связью», то есть крытым переходом, соединена с другой деревенской избой, в которой лежал тяжелораненый князь, благодаря чему Наташа и могла увидеться с ним Здесь такой же мощный эмоциональный взрыв в финале, как и в фрагменте с Тушиным. Только направленность его иная: там - к страху в высшем его проявлении; здесь - от страха к состоянию счастья и покоя Наташа, словно поднимаясь по ступеням ужаса, потому что в ее сознании князь Андрей - олицетворение этого страшного стона, вступив в избу, где он лежит, вдруг видит какое-то изуродованное тело в углу: поднятые под одеялом его колени она принимает за его плечи и в ужасе останавливается, но все-таки заставляет себя сделать еще несколько шагов В это время нагоревший гриб свечи падает, свет становится ярче, и она видит князя Андрея, каким привыкла видеть его всегда; он протягивает ей руку и говорит: «Вы? - Как счастливо!». Прием яркого контраста тот же самый, только эмоциональный настрой иной.
Итак, небольшой фрагмент романа дает значительную информацию о его содержании, о своеобразной писательской технике, об особенностях его структуры и о нем самом. Принципы структурного анализа позволяют ввести учащихся в процесс творческого постижения литературы; они могут перенести на себя не только то, что хотел сказать автор из пережитого и испытанного им, но и самостоятельно искать и находить, вместе с красотой гармонии и соразмерности литературной формы, красоту ее развертывания, ее становления. А это для начала не так уж и мало.
Библиографическим список
1. Анпилова Л.Н. Русская версия экспрессионизма. Проза Бориса Пильняка 1920-х годов. СПб., 2019.
2. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. М. , 1963.
3. Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 8. М., 1957.
4. Попов Д.А. Научно ориентированное искусство: проекты и результаты. Саратов, 2016
5. Толстой Л.Н. Собрание сочинений: В 22 т. М. , 1978-1985.
6. Хроленко А.П. Введение в филологию: учебное пособие. М. , 2017.
7. Фортунатов Н.М. Матричная компонента в структуре пушкинского текста // Болдинские чтения / под ред. Н. М. Фортунатова. Нижний Новгород, 2008. С. 235-249.
Фортунатов Николай Михайлович - доктор филологических наук, профессор; профессор кафедры русской литературы Института филологии и журналистики, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского







 Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий
Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий