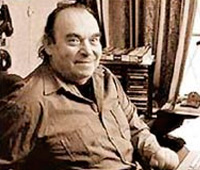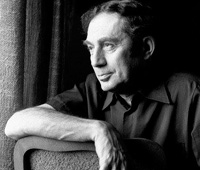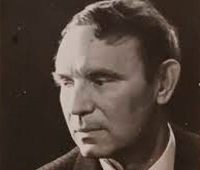Степченкова В.Н. Пути обретения истинной любви в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»
Аннотация. Целью статьи является осмысление путей познания и обретения истинной любви в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Методология статьи носит комплексный характер и основывается на историко-генетическом, аксиологическом и феноменологическом подходах. Поставлена проблема отличия любви земной от любви Божественной. В результате исследования доказывается, что у двух форм любви разная природа, мотивы, плоды. По Достоевскому, Божественная любовь достижима благодаря совокупной последовательности таких явлений, как страдание, смирение и покаяние (Маркел, таинственный незнакомец). Определено, что прийти к высшей форме любви можно через отдельные составляющие указанной триады. Зосима пришел к любви через покаяние, Алеша в смирении, Дмитрий через страдание. Диалектическим выводом статьи является утверждение о необходимости явления любви в действиях, ведущих к полноте ее обретения: покаяние без любви предстает простым признанием, не приносящим душевного облегчения (Иван Карамазов, Смердяков), любовь без смирения приносит скорбь (Катерина Ивановна, Грушенька), страдание без любви приводит к отчаянию (теория Ивана). Выявлено, что с истинной любовью соседствует сострадание, которое побуждает к деятельной любви - конкретному проявлению добра, а также страх Божий, который удерживает от зла, так как подсознательно указывает на наличие духовной ответственности за совершенные поступки. В процессе исследования сделаны выводы, что смысл человеческого бытия заключается в пути обретения Евангельской любви, который является оборотной стороной обретения веры и познания Бога. Изучение аксиологической установки произведения способствует постижению авторского мировоззрения писателя и формированию духовно-нравственной парадигмы читателя.
Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, роман «Братья Карамазовы», любовь, покаяние, смирение, сострадание, богобоязнь.
В романе «Братья Карамазовы» многие персонажи пытались осмыслить категорию любви: рассказчик размышлял, была ли любовь между Федором Павловичем и Аделаидой Ивановной; говоря об Алеше, повествователь пытался понять, в чем заключалось его «уменье заставить себя полюбить»; Федор Павлович замечал про Ивана, что тот никого не любил, но Алеше, напротив, признавался в любви . Дмитрий рассуждал, в чем отличия понятий «любить» и «влюбиться» [7, т . 14, с . 96] . Иван распознал чувства Катерины Ивановны как «любовь-долг» - все это говорит о соображениях персонажей романа о любви, и как следствие - ее поиск В «Братьях Карамазовых» описана разная любовь: материнская (Красоткина Анна Федоровна), отеческая (Снегирев Николай Ильич), дружеская (Алеша и Коля), братская (Алеша и братья), между мужчиной и женщиной (Катерина Ивановна и Дмитрий), но для Достоевского главной была Евангельская любовь - такую любовь являли к своим ближним Зосима и Алеша. К. В . Зенин в работе «Идеал любви в творчестве Ф. М. Достоевского» утверждал, что для писателя Любовь и Христос «одно полностью» [9, с. 209]. Во Христе Достоевский видел основу единой, всеобщей любви, ту нравственную силу, которая способна внести гармонию и мир не только в общество, но и в жизнь отдельного человека.
Достоевский наделил Алешу и Зо- симу христианской любовью, это видно из описания их жизней и учения старца. Главный герой Алексей с самого начала романа определен как «человеколюбец» [7, т . 14, с . 17], написано, что «людей он любил» [Там же, с . 18)], и неоднократно говорится, что люди его «любили» [Там же, с . 19] . После акцентированного представления Алеши как носителя и источника любви, читатель воспринимает поступки и действия молодого человека как заведомо исполненные любви, что облегчает понять их мотивацию. Этот прием Р. Бэлнеп называет «читательское ожидание» [4, с 76] Так же и про старца Зосиму говорили, что он любил людей, особенно тех, «кто грешнее» [7, т . 14, с . 28], следуя словам Иисуса о том, что «не здоровые нуждаются во враче, а больные» (Мк. 2:17). И многие в ответ «любили его всем сердцем, горячо и искренне» [Там же, с . 28]. Алеша объяснял, за что Зосиму так любят: для души русского простолюдина, измученной трудом и грехом, «нет сильнее потребности и утешения, как обрести святыню или святого, пасть пред ним и поклониться ему», ведь старец - «хранитель Божьей правды к глазах народа» [Там же, с 29] Любовь была главным связующим звеном в отношениях Алеши и Зосимы: молодой человек привязался старцу «всею горячею первою любовью своего неутолимого сердца» [Там же, с . 18], и Зоси- ма «очень полюбил его и допустил к себе» [Там же, с 29]
Через учение и жизнь старца Зосимы Достоевский доносит до читателей сущность и значение любви, а через Алешу учит, как надо любить людей «деятельно». О том, что любовь Зосимы и Алеши носила христианский характер, говорит наличие таких специфических свойств, как жертвенность, кротость, смирение, долготерпение, радость - все это присутствовало как в жизни старца, так и в жизни Алексея Имея во многом равные возможности, одни герои романа находят любовь, а другие так и остаются в поиске . В своем художественном мире писатель показывает пути, благодаря которым можно достигнуть Евангельской любви. Тему любви и добра в творчестве Достоевского изучали такие исследователи, как А.А. Алексеев, Е. Ю. Алексеева [1], митр. Антоний (Храповицкий) [2], Г. В . Валеева [5], С .И. Гессен [6], К. В . Зенин [9], преп. Иустин (Попович) [10], Т . Г. Магарил-Ильяева [14; 15].
Один из путей, ведущих к Любви, а также воскресению и жизни - покаяние. А . И . Осипов писал: «Достоевский, кажется, только и пишет о “карамазовых”, о преступниках, об убийцах, возрождающихся через осознание своей греховности и покаянием восходящих к началам новой жизни» [16, с . 64] . Именно с покаяния началось духовное возрождение молодого Зосимы: после избиения со «зверской» жестокостью денщика Афанасия, закралось в его душу что-то «позорное и низкое» Достоевский показывает, что у Зосимы был выбор - заглушить свою совесть объяснением «оттого ли, что кровь иду проливать» или оправданием «оттого ли, что смерти боюсь?» [7, т . 14, с . 270], а от мыслей о денщике молодой офицер мог откреститься: ведь «случалось и прежде, что ударял его» [Там же] . И даже после осознания причины душевного терзания, что «дело в том, что я с вечера избил Афанасия» [Там же], Зоси- ма мог проигнорировать зов совести: ведь он уже сел с поручиком в коляску и приготовился к дуэли . Но в один миг он сбегает и бежит в каморку к Афанасию . Достоевский изображает эту сцену эмоционально, ведь это был момент духовного возрождения молодого человека: «бух ему в ноги лбом до земли: “Прости меня!” <...> ладонями обеими закрыл лицо <...> от слез так и затрясся» [Там же, с 271] После этого офицер почувствовал себя «победителем» [Там же, с . 274] .
О душевном перевороте говорит не только решение отказаться от дуэли, но и изменившееся отношение к своему противнику: вначале написано, что он «запылал отмщением», но уже потом, на дуэли, глядел на него «любя» [Там же, с 271] В момент покаяния Зиновий (так звали в миру будущего старца) вспоминал своего брата Марке- ла («и вспомнил я тут моего брата» [Там же, с 270]), который от отрицания Бога через покаяние («простите и вы меня, потому что и пред вами я согрешил» [Там же, с . 263]) пришел к Божьей любви («каждый день все больше и больше <...> трепеща любовью» [Там же, с 262]) Стоя на дуэли, выбросив пистолет и попросив прощения у своего соперника, Зиновий заключил словами своего брата: «жизнь есть рай» [Там же, с 270]
Митр Антоний (Храповицкий) писал: «покаяние и возрождение, грехопадение и исправление <...> только около этих настроений вращается вся жизнь всех его героев» [2, с 20] Формулу «грех-покаяние-любовь» Достоевский применяет и к таинственному незнакомцу Земная любовь, исполненная ревности, подтолкнула его к убийству возлюбленной, и после этого пришли муки совести, бывшие «не в подъем своим силам» [7, т . 14, с . 278] . Мужчина думал искупить грех «тайною мукою», но «чем дальше, тем сильнее становилось страдание» [Там же, с 279] И только всенародное покаяние принесло в его душу радость и мир Речь незнакомца была взволнованна, патетична, об этом говорит преобладающая инверсия в его фразах: «умираю, но радость чувствую» (вместо «чувствую радость), «после стольких лет впервые» (ср : впервые после стольких лет), «в душе моей рай» (ср .: в моей душе), «смею любить детей моих и лобызать» (ср .: моих детей), «не поверят никогда и дети» (ср : и дети никогда не поверят), «милость Божию вижу в сем» (ср .: в сем вижу милость Божию) Слова про рай опять отсылают к Маркелу, утверждавшему, что «жизнь есть рай» [7, т . 14, с . 202], и эти слова незнакомец услышал от молодого Зосимы Таким образом Зосима исполнил повеление брата «живи за меня» и передал духовную жизнь таинственному незнакомцу и в дальнейшем нес всем, кто приходил к нему за помощью Про старца митр Антоний (Храповицкий) отмечал, что «не через искусственную проповедь, но через исповедь, через раскрытие своего сердца и через всю свою жизнь призывает братий к покаянию и любви» [2, с 26] Верующую бабу старец наставлял: «Коли каешься, так и любишь А будешь любить, то ты уже Божья» [7, т . 14, с . 29] . Алеша также располагает людей к открытости и побуждает к покаянию Об этом говорит Грушенька, госпожа Хохлакова, Lise [Там же, с . 319, 194; 7, т . 15, с . 15] - «всякий из них, как и любой живой человек, еще имеет время на покаяние и исправление, на метанойю - “изменение ума”, то есть на то, что должно произойти с человеком в результате таинства его покаяния» [1, с . 149] .
Следующий путь к Любви - смирение. «Смирение, по Достоевскому, способно обращать грешников и насаждать царство Божие» [2, с . 30] . Так к покаянию и осознанию рая в душе Маркел пришел через смирение: вначале вынужденное - болезнь, потом сознательное - пост [7, т . 14, с. 261] . Даже такое чувство, как любовь, теряет свою Божественность без смирения: лишенное смирения, оно может приносить скорбь и отчаяние Такой является любовь Катерины Ивановны (любовь - долг), Грушеньки (любовь - страдание), Лизы Хохлаковой (любовь - каприз), Федора Павловича (любовь - страсть), Дмитрия Карамазова (любовь - ревность) Напротив, смиренная любовь является источником добра - это любовь безногой сестры Илюши, «ангела Божьего во плоти» [Там же, с . 185], любовь матери Софьи Ивановны, обладавшей «феноменальным смирением и безответностью» [Там же, с . 14], любовь Зосимы и Алеши Антоний (Храповицкий) говорил: «Смиренная, сострадающая любовь есть эта воскрешающая сила: любовь без смирения - мука, приводящая к истязаниям и самоубийствам» [2, с. 41] . О смиренной любви учил и старец Зоси- ма: «.видя грех людей, и спросишь себя: “взять ли силой, али смиренною любовью?” Всегда решай: “возьму смиренною любовью” <...> Смирение любовное - страшная сила, изо всех сильнейшая, подобной которой и нет ничего» [7, т . 14, с . 289] . Таким образом, смирение является одним из путей, ведущих к добру и любви, А И Осипов говорил о важности смирения: «Без смирения не может быть исправления, в котором нуждаются все без исключения живущие <...> Смирение является твердой основой, солью всех добродетелей Без него они вырождаются в лицемерие, ханжество, гордыню» [16, с . 60] .
Достоевский показывает, что путь добра и любви проходит через сострадание, которое он толкует как «способность понять человека, проникнуть в то доброе, что у него есть, оценить его, освобождая его от примеси лжи» [2, с . 42] . Писатель много говорит о сострадании как о национальной черте русского народа. Одним из ярких примеров, описанным в «Дневнике писателя» 1876 г. , является рассказ про мужика Марея - представителя русского народа, который пожалел маленького испуганного Федора. Достоевский так вспоминал этот эпизод: «Только Бог, может, видел сверху, каким глубоким и просвещенным человеческим чувством и какою тонкою, почти женственною нежностью может быть наполнено сердце иного грубого, зверски невежественного крепостного русского мужика, еще и не ждавшего, не гадавшего тогда о своей свободе» [7, т . 22, с . 49] . Состраданием Достоевский наполнил и слугу Федора Павловича Карамазова Григория, который приютил маленьких хозяйских детей: «Трехлетнего мальчика Митю взял на свое попечение верный слуга этого дома Григорий, и не позаботься он тогда о нем, то может быть, на ребенке некому было бы переменить рубашонку» [7, т . 14, с . 414]. Благодаря состраданию к своему товарищу Илюше, изменились его одноклассники, и «это принесло огромное облегчение в его страданиях» [Там же, с . 455] . Илюша был тронут, «увидев почти нежную дружбу и участие <...> прежних врагов своих» [Там же], а мальчики смогли показать свои добрые детские сердца. Сострадание испытывает Алеша Карамазов ко всем окружающим Гру- шенька про него говорит: «Пожалел он меня первый, единый <...> Я всю жизнь такого как Ты ждала, знала, что кто-то такой придет и меня простит!» [Там же, с. 323] . Алеша проявлял сострадание к братьям, отцу, штабс-капитану Снегиреву - все они чувствовали его сострадательную любовь, живительной водой орошавшей их сердца! «Сострадательная любовь проникает во все сферы жизни и пробивает ледяную кору сердец, преображает внутреннею природу ближних, создавая в их душах бессознательные добрые расположения» [3, с 268-269].
Достоевский показывает, что обрести любовь можно путем страданий. Любовь-агапе не возникает на ровном месте, человек должен пройти «горнило сомнений» [8, с . 696], испытаний и страданий. Страдальческим путем пришел к Богу юный брат Зосимы и Илюша: «Смерть Ильюшечки, принесшая с неба на землю всем окружающим большим и малым, благодать любви и примирения, - это ответ автора на “бунт” Ивана Карамазова, который не мог примирить Боже- ственнаго правосудия с наличностью страдания невинных детей», - отмечал митр . Антоний (Храповицкий) [3, с. 307].
Именно через страдание жаждал очиститься Дмитрий Карамазов . И.А. Ильин писал: «Страдание - далеко не зло; страдание - это, так сказать, цена за духовность, за ту священную грань, за которой начинается преображение животной сущности человека в сущность ценностную» [10, с. 473] . В «Преступлении и наказании» Достоевский также писал о необходимости страданий: «Страдания и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца» [7, т 6, с 203].
Г.В. Валеева отмечала по отношению к Достоевскому: «Он формулирует парадоксальную мысль о том, что человек имеет потребность в страдании, поскольку оно имеет возрождающую силу. Жизнь - есть искупление вины через боль и страдание» [5, с . 52] . Писатель верил, что в страданиях сгорает зло . Словно сквозь чистилище Достоевский проводит своих героев через скорби к преддвериям рая . В черновых записях к «Преступлению и наказанию» Достоевский писал: «Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием <...> Человек не родится для счастья.
Человек заслуживает свое счастье, и всегда страданием» [7, т . 7, с. 154-155] . У писателя было христианское понимание зла и скорбей: в его письмах сибирского периода часто встречаются выражения «все от Бога и у Бога» [Там же, т . 28 (1), с . 180], «все в руках Божиих», «я, надеясь на Бога, не задремлю и сам» [Там же, с . 269] . Достоевский показывает своим читателям, что возможно преодолеть зло: «путь свободы - это неизбежное столкновение со злом и возможное его преодоление Преодоление зла заключает в себе страдальческое искупление вины» [15, с. 135] . Митя и Грушенька смогли пройти трудности и обрести любовь У Мити этому предшествовал душевный кризис: пошатнулись все жизненные устои, молодой человек побывал на грани самоубийства [7, т . 14, с . 370], прошел через «стыд и позор» [Там же, с . 441)], и, как он думал, совершил страшный грех - убийство Григория Грушенька приходит к любви также после крушения всех надежд, мечтаний, после того как долгожданный жених оказался проходимцем, и она понимает, что ждать больше нечего «Достоевский показывает, что смысл страданий многогранен - это путь, на котором душа очищается и спасается» [18, с . 267] .
Не менее важно в жизни христианина присутствие страха Божьего, который также направляет к Любви. Как и любовь, страх бывает разный. Достоевский в «Дневнике» описывает смертельный страх, от которого цепенеешь: «Знаете ли, что такое смертный страх? < . . . > Это невыносимо, это горячечный кошмар, только наяву и, стало быть, во сто раз мучительнее» [7, т . 23, с. 18] . Также писатель это чувство называет «животный страх самосохранения» [Там же, т . 25, с . 210] . Автор изображает в «Братьях Карамазовых» подобные случаи, например, состоянии Фени, служанки Грушеньки, когда Дмитрий в исступлении напал и душил ее [Там же, т . 14, с . 357] . Иван Карамазов говорил о страхе мальчика, на которого собираются натравить собак [Там же, т . 15, с . 228] . Есть и другие виды страхов, которые не ведут ни к Богу, ни к покаянию Старец Зосима предостерегал от такого страха: «Страха тоже убегайте, хотя страх есть лишь последствие всякой лжи Не пугайтесь никогда собственного вашего малодушия в достижении любви, даже дурных при этом поступков ваших не пугайтесь очень» [Там же, т . 14, с . 54].
Совершенно иной страх - это тот, который обращает мысли человека к Богу По словам Достоевского, человек в своих грехах может дойти до такого состояния, когда начинает желать этого страха: «Не хочу безобразия, не хочу пить вина, а хочу правды и страха Божьего, а главное правды, правды прежде всего» [Там же, т . 21, с . 59] . Подобный необъяснимый страх периодически находил и на Карамазова-отца: «Федор Павлович вдруг ощущал в себе иной раз, пьяными минутами, духовный страх и нравственное сотрясение, почти так сказать даже физически отзывавшееся в душе его . “Душа у меня точно в горле трепещется в эти разы”, говаривал он иногда» [7, т . 14, с . 86] . Это тот страх, который рождается в глубине нашей души от понимания, что за пределами земной жизни надо будет дать ответ за все наши поступки, отчего Федор Павлович интересовался, есть ли в аду «потолок и крючья», из чего эти крючья сделаны и откуда берутся. Госпожа Хохлакова интересуется, что будет после смерти, все ли закончится «лопухом» на могиле По ее мнению, страх перед подобными вопросами вынуждает задуматься о вере [Там же, с 52] Через диалоги своих героев Достоевский обращает взор читателей к миру горнему и дает возможность каждому задуматься о том, что ждет человека после окончания земного пути Митр Антоний (Храповицкий) писал, что «страх загробнаго воздания <...> необходимо побуждает человека к исполнению воли Божией» [2, с 261] К Н Леонтьев рассуждал: «Начало премудрости (то есть настоящей веры) есть страх, а любовь - только плод Нельзя считать плод корнем, а корень плодом» [13, с . 75].
Высшее видимое проявление любви - это деятельная любовь [6, с . 314], т . е . конкретное проявление добра . Старец Зосима говорил, что это добро имеет двойное благотворное воздействие, потому что сказывается не только на том, на кого направлено, но и на том, кто совершает это добро: оно не только «не подпитывает эгоцентрические силы, но и укореняет на их месте прямо противоположные начала» [19] . В романе мы видим, что в жизни главного героя Алеши Карамазова деятельная любовь занимала особое место . Именно благодаря ей жизни людей вокруг молодого человека менялись. Силу для деятельной любви Алеша брал в вере в Бога.
Таким образом, по Достоевскому, прийти к любви в ее высшем проявлении в форме Евангельской деятельной любви возможно через покаяние, смирение, сострадание, страдания, страх Божий Сама же любовь предстает «как путь к вечной жизни» [14, с . 291]; по словам преп . Иустина (Поповича), «путем обретения любви» приходим «к реальному познанию Вечной Истины» [11, с . 186] . Источником такой любви является Бог, поэтому в вопросе познания и обретения любви первостепенную роль играет вера, так как только через христианскую призму можно «воспринимать мир как совершенное творение Бога» [12, с . 123-124] и в полной мере осознать такие категории, как добро и любовь По словам В . С . Соловьева, Достоевский, «приняв в свою душу всю жизненную злобу, всю тяготу и черноту жизни, преодолел все бесконечной силой любви. Во внутренней силе любви писателю открылась действительность Бога и Христа» [17, с . 290] .
Библиографический список
1 . Алексеев А.А., Алексеева Е.Ю. Творчество Ф .М. Достоевского как художественное воплощение Евангельской любви // Вестник Шадринского государственного педагогического университета . 2018 . № 2 (38) . С . 146-152.
2 . Антоний (Храповицкий), митрополит. Ф. М. Достоевский как проповедник возрождения. Нью-Йорк, 1965 .
3 . Антоний (Храповицкий), митрополит . Избранные труды. Письма. Материалы. М. 2007.
4 . Бэлнеп Р.Л. Структура «Братьев Карамазовых» . СПб . , 1977 .
5 . Валеева Г.В. Проблема добра и зла в творчестве Ф . М . Достоевского // Гуманитарные ведомости ТГПУ имени Л .Н . Толстого . 2017 . № 3 (23) . С . 49-54.
6 . Гессен С.И. Трагедия добра в «Братьях Карамазовых» Достоевского // Современные
записки. 1928. Кн. 35 . С . 308-338.
7 . Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л ., 1972-1990.
8 . Достоевский Ф.М. Записная тетрадь (1880-1881) // Литературное наследство . Т . 83 . М. , 1971 . С . 517-666.
9 . Зенин К.В. Идеал любви в творчестве Ф. М. Достоевского // Вестник РГГУ. Серия
«Философия. Социология. Искусствоведение» . 2010 . № 13 (56) . С . 209-219.
10 . Ильин И.А. Собрание сочинений: В 10 т . Т . 6, кн . 3 . М . , 1997.
11 . Иустин (Попович), преп. Философия и религия Ф .М . Достоевского. Минск, 2007.
12 . Киселева И.А. «Пророк» (1826) А. С . Пушкина и «Пророк» (1841) М. Ю . Лермонтова: сравнительная семантика мотивного комплекса // Проблемы исторической поэтики. 2020. Т. 18 . № 1 . С . 111-129 .
13 . Леонтьев К.Н. О всемирной любви // Властитель дум. Ф. М. Достоевский в русской
критике конца XIX - начала XX века . СПб . , 1997. С . 68-102.
14. Магарил-Ильяева Т.Г. Ф .М . Достоевский и Вл. Соловьев: смысл любви // Литература и религиозно-философская мысль конца XIX - первой трети ХХ века. М. , 2018 . С . 287-295 .
15 . Магарил-Ильяева Т.Г. Богословие Достоевского в понимании Бердяева // Достоев
ский и мировая культура . Филологический журнал . 2020. № 3 (11) . С . 117-139 .
16 . Осипов А.И. Достоевский и христианство // Журнал Московской патриархии . Худо
жественная литература . 1997. № 1 .С .56-64.
17 . Соловьев В.С. Три речи в память Достоевского // Сочинения: В 2 т .Т. 2 . М. , 1988. С.290-323.
18 . Степченкова В.Н. Проблемы теодицеи и нравственного самоопределения в романе
Ф М Достоевского «Братья Карамазовы» // Евангельский текст в русской словесности: сборник тезисов докладов X Всероссийской научной конференции. Петрозаводск, 2020 С 266-267
19 . Тарасов Ф.Б. Ф. М. Достоевский «Братья Карамазовы» (1879-1880) // Образовательный портал «Слово. Филология. Литература». URL: https://www.portal-slovo. ru/philology/37089. php?ELEMENT_ID=37089&SHOWALL_1=1 (дата обращения: 06.03.2021) .
Степченкова Валентина Николаевна, Московский государственный областной университет, г. Мытищи







 Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий
Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий