Кармазинская М.А. Загадка пушкинской Татьяны
Татьяна всегда занимала воображение читателя. В героине пушкинского романа ощущается некая неразгаданность, тайна, заставляющая задаваться вопросом: «Да что же в ней такое есть?» В самом деле, что?
Понятны болезненная прелесть Настасьи Филипповны («Идиот» Ф.М. Достоевского) или обаяние жизнелюбия, источаемое Наташей Ростовой («Война и мир» Л.Н. Толстого). Даже в облике тургеневской Лизы Калитиной («Дворянское гнездо» И.С. Тургенева), которая более других героинь русской литературы напоминает Татьяну, в частности своей «закрытостью», ускользанием от окончательных характеристик, все-таки есть некоторая определенность — чистота, жизнь «всерьез», не по-обывательски глубокая вера, сознание святости долга. Вполне объяснимы, логичны ее поступки: крушение греховных, как видится героине, надежд естественно приводит ее в монастырь. Решение Лизы оставить мирскую жизнь неожиданно для Лаврецкого, Лизиной матери, даже для Марфы Тимофеевны, но вполне соответствует ожиданиям читателя, с самого начала предчувствовавшего «что-то такое».
С Татьяной все иначе. С горя она не умерла, в монастырь не ушла, в девках не осталась. Кажется, обычнее ее житейской истории (неразделенная любовь в юности и хороший — «добротный» — брак не по любви, но со взаимным уважением — в зрелости) трудно что-нибудь представить. Однако Татьяна изумляет и героев романа, и читателей («ужель та самая...»). Безусловно, эффект неожиданности в значительной мере возникает, как отметил известный литературовед Ю.М.Лотман, благодаря тому, что автор «литературными трафаретами» принципиально не пользуется. «Герои "Онегина" неизменно оказываются в ситуациях, знакомых читателям по многочисленным литературным текстам. Но ведут они себя не по меркам "литературности". В результате читатель все время оказывается в положении человека, ставящего ногу в ожидании ступеньки, между тем как лестница окончилась и он стоит на ровном месте»1. И все же дело не только в несоответствии романным схемам. При всей простоте рассказанной автором «обыкновенной истории» в ней много «темных мест». В частности, очевидно порой расхождение представлений героини о мотивах ее поступков с действительными мотивами, о которых можно только гадать (и гадают — со времен Белинского). Свое замужество, например, Татьяна объясняет житейски просто:
...Меня с слезами заклинаний
Молила мать; для бедной Тани
Все были жребии равны...
Я вышла замуж...

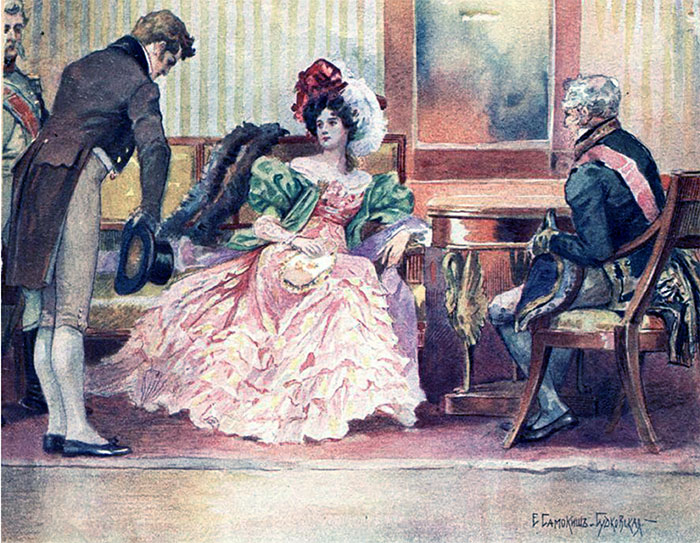
Илл. Е. П. Самокиш-Судковской
Но поверить этому незатейливому объяснению чрезвычайно трудно! Если «все были жребии равны», то почему не вышла за Петушкова, за Буянова, за гусара Пыхтина? Ведь и тогда «молила мать», но покорная дочь, однако, твердила одно: «нейду». Значит, все же «жребии» были не совсем «равны»?
Не менее удивительно то, что совершается с героиней после замужества. Даже приняв как очевидное, что «сюжет "Онегина" в значительной мере отмечен отсутствием событий (если понимать под "событиями" элементы романного сюжета)»2, что в романе все происходит просто и вместе с тем сложно, как в жизни, а потому никакой подчеркнуто драматический исход ситуации невозможен, нельзя не изумиться тому, что Татьяна не только не зачахла, не потускнела в страдании, но расцвела, похорошела, раскрылась да еще как-то невольно, сама того не желая, добилась успехов в свете (хотя светская жизнь ей «постыла»). А между тем любовь к Онегину по-прежнему, как тогда, «в глуши степных селений», терзает ее сердце. Она плачет, тайно перечитывая его письма, горько пеняет герою за напрасные муки, на которые он ее обрек, сожалеет об утраченной возможности счастья. И все это без тени рисовки, неискренности.
И, конечно, «как будто громом поражен» читатель Татьяниным решением расстаться с героем, а еще более — признанием в любви, произнесенным как бы «между прочим»:
Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна.
Поразительно бескорыстие героини. «Все козыри были у нее в руках, — писала влюбленная в Татьяну М.И. Цветаева, — чтобы отомстить и свести его (Онегина. — М.К.) с ума, все козыри — чтобы унизить, втоптать в грязь — она все это уничтожила одной только обмолвкой: я вас люблю — к чему лукавить?»3 Но поражает и противоречивость поступка (признается в любви одному — обещает хранить верность другому).
Совершенно естественно, что многими, в том числе и искушенными читателями, овладевал соблазн придать облику Татьяны и — главное — ее финальному поступку и последней реплике некоторую прямолинейность, назвав определенный и основной мотив, ею руководивший. Белинский посвятил Татьяне девятую статью из цикла «Сочинения Александра Пушкина» (1842-1846). «Глубокая и сильная натура» Татьяны, по мысли критика, была создана для любви, но героиня изменила назначенному ей пути: «Жизнь женщины по преимуществу сосредоточена в жизни сердца, любить — значит для нее жить, а жертвовать — значит любить. Для этой цели создала природа Татьяну, но общество пересоздало ее»4. Критик не мог простить героине «измены» святой любви ради исполнения светских обязанностей. Комментируя последнюю сцену романа, Белинский приходит к мысли, что Татьяной руководит страх перед судом света, того самого света, который она искренне презирает. Критик находит объяснение этому «грустному противоречию» в уродствах «расейской действительности»:
«Татьяна — тип русской женщины», а «у нас как— то все это клеится вместе: поэзия — и жизнь, любовь — и брак по расчету, жизнь сердцем — и строгое исполнение внешних обязанностей, внутренне ежечасно нарушаемых»5.
Спустя пятнадцать лет в статье «Наше общество в "Дворянском гнезде" Тургенева» П.В. Анненков «развенчал» Татьяну, по существу повторив упреки Белинского в адрес пушкинской героини:
«Татьяна под конец обнаруживает еще и способность к сделкам со своею совестью... она еще любит втайне Онегина и находится замужем — вот что положительно дурно»6.
Правда, Анненков не только не считал, что Татьяна изменила высокому предназначению женщины — жить «жизнью сердца», безоглядно и жертвенно любить: в сосредоточенности героини на «истории своей любви», в отсутствии более широких интересов критик, напротив, видит ее ограниченность. Он противопоставляет Татьяне — героине недавней, но уже ушедшей эпохи — новый «тип русской женщины», Лизу Калитину, имеющую интересы, выходящие за пределы любви, и строгие нравственные правила, что и определяет ее подлинное духовное совершенство7. Белинский воспринимал юную Татьяну («немую деревенскую девочку») как «нравственный эмбрион»8, Анненков приписывает душевную неразвитость и Татьяне — зрелой женщине: она «обманывает... не только свою совесть, но и веру другого человека, хотя все чисто и безукоризненно в ней по наружности»9.
То, что Татьяна могла восприниматься как идеал, Анненков приписывает характеру пушкинского времени — ограниченности самосознания тогдашнего общества. В конечном счете и Белинский, и Анненков смотрят на Татьяну как на явление общественное прежде всего.
Иную точку зрения высказывает Ф.М. Достоевский в своей Пушкинской речи 1880 г. И для него Татьяна — «тип русской женщины», но его в этом «типе» занимает не отражение черт времени и среды, а вечные, неизменные свойства русской души — готовность «пострадать», невозможность причинить боль другому человеку, построить свое счастье на несчастье другого. Достоевский «возвращает» финальному поступку Татьяны его высокий смысл, а самой героине — душевную глубину и многосложность. «Нравственным эмбрионом» он, скорее, склонен считать Онегина, нежели прозорливицу Татьяну:
«Если есть кто нравственный эмбрион в поэме, так это, конечно, он сам, Онегин, и есть бесспорно»10.
По мере того как отступает в прошлое пушкинская эпоха, все менее Татьяна вызывает интерес как характер конкретно-исторический. М.И. Цветаевой мысль о влиянии общества на пушкинскую героиню совершенно чужда, вообще чужд социальный аспект романа: «Быт?.. Нужно же, чтобы люди были как-нибудь одеты». Для Цветаевой финальный поступок Татьяны — пример верного выбора «между полнотой желания и исполнением желаний, между полнотой страдания и пустотой счастья»11. Героиня, ощутив, что любовь невоплоти-ма, более того, что воплощение-осуществление любви опустошает, разрушает жизнь и душу, сумела построить свою жизнь в соответствии с этим открытием.
Таким образом, вариантов интерпретаций может быть множество, поскольку Пушкин намеренно (как он это обычно делает, когда явление очевидно выходит из берегов конкретного и однозначного истолкования) не дешифрует столь же совершенную, сколь и неясную формулу «я другому отдана». В ней можно расслышать все что угодно — от буквального следования церковным требованиям и национальным традициям до мистического ощущения предопределенности судьбы.
Такой же неясностью, а часто и противоречивостью в целом отмечено изображение Татьяны в романе. В прямых высказываниях героини (письмо Онегину, разговор с няней, заключительная отповедь) нет ничего, что обнаруживало бы ее исключительность. Письмо — признание наивной девочки, мыслящей на языке прочитанных книг. Оно, скажем, очевидно проигрывает в сравнении с письмом Онегина, в котором «кипит живая кровь». Пушкин сообщает читателю, что письмо Татьяны переведено с французского, и это живо ощущается. Французский первоисточник обнаруживает себя в некоторой напыщенности выражений, в изящных банальностях, коими изобилует послание:
То в высшем суждено совете...
То воля неба: я твоя....
Картинки жизни, которые рисует в письме Татьяна, также литературно узнаваемы и отдают сентиментальным штампом:
...Ты говорил со мной в тиши,
Когда я бедным помогала...;
Вообрази: я здесь одна,
Никто меня не понимает,
Рассудок мой изнемогает,
И молча гибнуть я должна.
Как писал Ю.М. Лотман, «текст письма Татьяны представляет собой цепь реминисценций в первую очередь из текстов французской литературы <...> целый ряд фразеологических клише восходит к "Новой Элоизе" Руссо», однако «обилие литературных общих мест в письме Татьяны не бросает тени на ее искренность»12.
То же впечатление наивности и «книжного» представления о жизни оставляет диалог Татьяны и няни: поэт позволяет читателю почувствовать иронию по отношению к героине, столкнув комически не совпадающие представления о любви восторженной барышни и деревенской женщины, не подозревающей о возможности романтических отношений. В отповеди Онегину Татьяна уже другая: она обрела зрелый взгляд на вещи, но теперь иные предубеждения владеют ею. Чего стоит, например, упрек умирающему от любви Онегину в том, что он, добиваясь Татьяны, ищет сомнительного успеха, «соблазнительной чести» в свете! Или простодушное «счастье было так возможно», хотя очевидно (и об этом не раз говорилось — со времен Белинского), что уж тогда, когда Татьяна была «моложе» и «лучше», ни о каком счастье ее с Онегиным и речи быть не могло. Обычная забывчивость слабого человеческого сердца, которое творит из прошлого легенду, ретроспективно пересоздает уже прожитую жизнь! Но при всем том существо Татьяны, сюжет ее жизни, немногочисленные, но столь весомые поступки, ее облик в VIII главе оставляют впечатление мудрой прозорливости, чуть ли не величавой значительности и особого умения жить — не совершая ничего недолжного, а тем более постыдного. Невольно приходит на ум, что Татьяне жизнь открыта в ее тайной сущности, и это владение высшим знанием, способность видеть сквозь оболочку вещей делают второстепенным ее самовыражение в слове.
Заметим, что одна из устойчивых характеристик Татьяны в романе — «молчаливая». Представляя героиню, автор замечает, что она «молчалива»; по определению Ленского, она «молчалива, как Светлана»; ей поверяют свои «сердечны тайны» московские барышни, она же свой «клад и слез и счастья» «Хранит безмолвно между тем / И им не делится ни с кем»; она, наконец, «не говорлива» на блестящем петербургском рауте. Но молчаливость Татьяны вовсе не знак угрюмой необщительности или чрезмерной застенчивости; это, скорее, примета несуетности, способности «видеть и внимать». Татьяна отнюдь не замкнута, она ведет постоянный диалог — с книгой, с природой:
Таинственно ей все предметы
Провозглашали что-нибудь.
По «отметкам резким ногтей», «крестам» и «вопросительными крючками» на полях книги она может прочитать письмена онегинской души. Минуя житейское, внешнее, она обращается к сущностному — и мир отзывается ей. Татьяна подглядывает «зари восход», ей первой открывается зима, ей снятся вещие сны, она безошибочно угадывает свою любовь, да и вообще она всегда угадывает и никогда не ошибается. Вернее, рассудок ее может ошибиться, но вот душа — нет.
Заметим и еще одно. Для своих немногочисленных бесед Татьяна сама выбирает себе собеседника — сама назначает того, с кем будет говорить (няня, Онегин), или того, кому позволит занять свою душу:
У скучной тетки Таню встретя,
К ней как-то Вяземский подсел
И душу ей занять успел.
Некая незримая завеса отделяет ее от того, что ей чуждо («Татьяна смотрит и не видит...»), но с тем, что ей близко, ничто не может разлучить ее сердце. Она, подобно пушкинскому поэту, «идет дорогою свободной», следуя подсказке «свободного ума». И так же, как и для поэта, свобода не означает для нее противостояния миру вообще и обществу в частности, не предполагает индивидуализма. Татьянина свобода — то самое «самостоянье, которое основано на "любви к родному пепелищу" и "отеческим гробам" ("Два чувства дивно близки нам...")», совместимо с включенностью в жизнь общества, с многообразными межличностными связями. Онегин и Татьяна в определенном смысле движутся в противоположных направлениях: Онегин покидает блестящий светский круг, а Татьяна «из глуши степных селений» перемещается в Петербург, становится центром светского мира. Поначалу именно уединенная деревенская жизнь кажется условием самобытности героини, но вот она попадает в Москву, и ничто чуждое ей не касается ее души. В Москве лишь Вяземский (поэт!) «душу ей занять успел», в целом же Татьяна неприязненно оценивает московский свет, где «клевещут даже скучно». В «московской» главе героиня, как чуть позже Онегин, «волненье света ненавидит», хотя и не выражает своего чувства в поступке или слове. Она лишь молча сторонится того, что не по ней. Но в VIII главе формы поведения Татьяны уже совершенно иные: она не затеряна в толпе, она в центре внимания, кажется «неприступною богиней» Невы, свободно ведет беседу с онемевшим Онегиным. Но и теперь ничего враждебного своей природе Татьяна из светского мира не взяла, ничто суетное ее не коснулось:
Она была не тороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
Все тихо, просто было в ней.
Только то, что в «комильфо» изначально близко Татьяне — сдержанность, некоторая закрытость, ровная приветливость, изысканная простота, — обнаруживается в ее поведении. В отличие от Онегина, для которого поиск своего пути предполагает уход с проторенной дороги. Он не хочет:
Вслед за чинною толпою
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей,
Татьяна остается верна своему пути, идя дорогой общей. Ей ведома иная степень свободы и иная ступень духовной высоты, находясь на которой можно не бояться попасть в зависимость от чего бы то ни было. И рядом с ней, полной «беспечной прелести» (невольная ассоциация — «а я, беспечной веры полн...»), спокойно правой, невозможно быть пошлым, дурным. Подобно поэту, она пробуждает «чувства добрые» самой своей прекрасной сущностью, нисколько о том не заботясь. Рядом с Татьяной преображается общество: старушки оставляют сплетни и обретают доброжелательность и снисходительность, подобающие мудрой старости, дамы забывают кокетство и соперничество, девицы — дерзость, а мужчины вместо будоражащего чувства влюбленности, плотского волнения испытывают благоговение. При ней даже ничтожная светская болтовня звучит живо и свободно.
«Тайная свобода» и духовная красота свойственны Татьяне изначально, но теперь, когда она явилась в облике пушкинской музы («с печальной думою в очах...»), они «проступили». В частности, их «проявил» жизненный опыт, который приобрела героиня, и опыт этот страдальческий. Отвергнутая любовь, смерть Ленского, отъезд Онегина, разлука с сестрой, замужество без любви, запоздалое чувство Онегина — печальный перечень утрат и разлук. Но всё с Татьяной не так! Не скорбный аскетизм, как у Лизы Калитиной, стал результатом ее опыта страданий, но, кажется, лишь большая терпимость и большее знание. Страдания не отменили для нее, как это обычно бывает, значения текущей жизни во всей ее полноте, свободе и многообразии. Не может заслонить собою всего мира и ее любовь. Вообще, Татьянина любовь — особая, такой в русской литературе больше не было. Татьяна не только верно угадала, что ей «в высшем суждено совете» любить Онегина (потому-то ее «душа ждала... кого-нибудь...», но дождалась именно Онегина: «...Открылись очи; / Она сказала: это он!»). Татьяна полюбила героя совершенной любовью. Любовью, соединяющей небесное и земное, плоть и дух, которую описал великий русский философ Вл. Соловьев в одной из самых пронзительных своих работ «Смысл любви»:
«Смысл человеческой любви вообще есть оправдание и спасение индивидуальности через жертву эгоизма». Способность не умозрительно, но чувством признать «безусловное значение» не только себя, но другого — в этом состоит «жертва эгоизма». Лишь тогда становится возможна «истинная индивидуальность»: ведь, «утверждая себя вне всего другого, человек лишает смысла свое собственное существование... и превращает свою индивидуальность в пустую форму».
Совершенная любовь не может быть основана на влечении к одной части человеческого существа (причем неважно, что играет роль этой «части» — глаза ли, «ножки», ум, доброта, талант). Подобное влечение — отклонение от высокой нормы, фетишизм — явление подмены, когда «часть ставится на место целого, принадлежность — на место сущности». Поскольку «истинное существо человека вообще не исчерпывается его данными эмпирическими явлениями», истинная любовь может быть направлена только на «целую человеческую индивидуальность»13. Такова любовь Татьяны. Не лицо, не ум, не сходство с героем романа любит она в Онегине, она любит его как «целую человеческую индивидуальность». Такая любовь не может пройти, иссякнуть, ее не убивает разлука, ей не угрожает разочарование. В самом деле, чувство героини проходит через целый ряд испытаний: на признание Татьяны Онегин отвечает холодной отповедью; он убивает Ленского, и героиня «должна в нем ненавидеть «убийцу брата своего»; герой отправляется странствовать, и надежда на встречу вряд ли согревает сердце Татьяны. Желая понять избранника, Татьяна прочитывает его книги и приходит к грустному предположению, что Онегин, возможно, лишь «слов модных полный лексикон», «пародия»... Татьяна уезжает в Москву, выходит замуж, становится законодательницей зал петербургского большого света... Но ее любовь не умирает, хотя каждое из названных событий могло бы ее убить.
Татьяна продолжает любить Онегина, даже считая его «чувства мелкого рабом». И вместе с тем она не становится «рабой любви» (как лермонтовская Вера, например). Повторим: любовь не заслоняет для нее весь мир. Так, она остается верна своему пути, на который вступила однажды и который ощутила как сужденный ей («...Судьба моя уж решена»). Она приняла свой крест — не в обиходном (как страдания, несчастья), но в высшем — христианском смысле: приняла свою долю, свое предназначение сознательно и твердо, и ничто — даже любовь — не может заставить ее отступить!
Татьяна бесстрашна, бескорыстна, правдива и «дружна» «с небесною волей». Она в самом деле «натура гениальная»14, по прозорливейшей мысли Белинского, она, наверное, единственная героиня в русской литературе, которая может быть названа воплощенным совершенством. И как близка она поэту — свободному и тесно связанному с миром, погруженному в «заботы суетного света» и вещему, покорному Божьей воле, страдающему и мужественно принявшему «общий закон бытия». Может быть, «милый идеал» Татьяны «образован» с души поэта, и не случайна обмолвка Кюхельбекера, что «поэт в своей VIII главе похож сам на Татьяну»?15.
1 Лотман Ю.М. Пушкин, Лермонтов, Гоголь. — М., 1988. — С. 81.
2 Т а м же.
3 Цветаева М. И. Мой Пушкин. — М., 1981. — С. 52.
4 Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. — М., 1981. — Т. 6. — С. 424.
5 Там же. — С. 424.
6 Анненков П. В. Воспоминания и критические очерки. Т. П. — СПб., 1879. — С. 212.
7 T а м же.
8 Белинский В. Г. Указ. соч. — С. 422.
9 Анненков П. В. Указ. соч. — С. 212.
10 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 10 т. — М., 1958. — Т. 10. — С. 447.
11 Цветаева М. И. Указ. соч. — С. 53, 52.
12 Л о т м а н Ю. М. Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. — М.; Л., 1980. — С. 228, 229.
13 Соловьев В. С. Смысл любви. — М., 1991. — С. 138,139,157,152.
14 Белинский В. Г. Указ. соч. — С. 406.
15 Дневник В.К. Кюхельбекера. — Л., 1929. — С. 42.
«Русский язык и литература для школьников» . – 2012 . - № 10 . – С. 14-23.






 Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий
Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий





